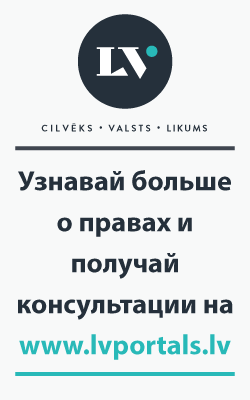В жизни каждого ребенка-инвалида, посещающего детский сад, есть четыре группы взрослых, определяющих его жизнь. Это его родители, всегда стоящие на его стороне; родители других детей, требующих внимания к их собственным детям; педагоги, далеко не всегда знающие, как учить ребенка-инвалида, и представители государства, заинтересованные в социализации инвалида, но не всегда предоставляющие для этого средства. В результате столкновения этих четырех векторов и определяется судьба и социализация особенного ребенка.
В последнее время число детей с особыми потребностями увеличивается год от года. То ли в воздухе что-то не то, то ли в силу гуманности общества педагоги стали чаще определять, что это ребенок не просто бесится, это у него «особые нужды». Любым детям с отклонениями от нормы нужна социализация. Но как малыши могут ее получить, если педагогов, знакомых с их недугом, не хватает?
– Для детей важны социальные навыки – умение цивилизованно разрешать конфликты, отстаивать свою точку зрения, принимать чужую, выполнять командную работу и коллективные задания, – рассказывает педагог рижского детсада Валерия Лерина. – Всем детям очень нужны эти навыки, и всем они даются нелегко – сквозь слезы, сквозь не хочу-не буду. Но «особенным» детям они даются особенно тяжело и им же они отчаянно нужны. Поэтому естественно, что родители таких детей крайне заинтересованы поместить их в обычные детские сады и школы. Не важно, ребенок ли это с плохим зрением, с заболеванием аутистического спектра, с синдромом Дауна или особенностями поведения (когда ребенок защищает свою позицию крайне агрессивно). На всех этих детей очень благотворно влияет нормальное большинство. Им легче скорректировать свои навыки и свое поведение среди большинства обыкновенных детей. Трудно ли большинству? Отнюдь. Их же большинство. Но скорость обучения детей без особенностей замедляется.
«Большой» секрет для маленькой компании
– Очень часто «особенность» ребенка становится известна только после приема в детсад, – рассказала «МК-Латвии» главный дошкольный эксперт Рижского департамента образования Дзинтра Тимша. – Дети с особыми потребностями регистрируются в общей очереди, даже родители до посещения детского садика могут не догадываться об особенности их ребенка. Конечно, на фоне обыкновенных детей «особенности» проявляются. Один ребенок явно слышит хуже, чем другие, второй скандалит и устраивает истерики гораздо чаще, чем другие. Третий очень сильно задумывается, и его гораздо сложнее чем-то увлечь, четвертый не может усидеть на месте ни минуты.
– Чаще всего это обнаруживается, когда возникает какой-либо конфликт, – рассказывает «МК-Латвии» педагог рижского детсада Ирина Савичева. – Причем это происходит не только с драчунами. Представьте себе, вся группа занимается рисованием, один мальчик упорно играет в кубики.
Воспитатель что-то показывает, что-то рассказывает, а мальчик ее игнорирует и занимается своим. Может, его воспитатель обидела? Оказывается, нет. У ребенка проблемы со слухом.
Родители не в курсе, более того, они удивлены и считают, что на ребенка наговаривают. Но врачи подтверждают гипотезу воспитателей, и когда парню покупают слуховой аппарат, ситуация нормализуется. Оказывается, воспитатель говорит интересные вещи! И рисовать вместе со всеми, соревноваться и выполнять командные задачи – интереснее, чем играть в одиночку!
– Порой родители знают об особенности ребенка, но из страха за его будущее скрывают его «особенности» от системы образования, – рассказывает «МК-Латвии» Дзинтра Тимша. – И совершенно зря. Потому что если «особенность» ребенка корректируемая, то руководство садика может направить его к более опытному, более квалифицированному специалисту, со временем направить на дополнительные занятия, например логопедические или физиотерапию.
Он нормальный – он как я!
Как рассказала педагог Валерия Лерина, некоторые особенности детей родители считают абсолютно нормальными.
Например, на замечание воспитателя, что ребенок выпускной группы почти не говорит, не выговаривает пол-алфавита и какает в штаны, отец малыша равнодушно заметил, что и у него самого были проблемы с алфавитом до второго класса, и конфузы с внезапным опорожнением случались даже в школе. Что не помешало ему вырасти приличным человеком.
– Если «особенность» серьезная, то есть ребенок в силу своих особенностей может навредить себе или другим детям, ему выделяют ассистента, который должен будет помогать именно этому ребенку, и следить за его безопасностью, чтобы тот не стал жертвой собственной неуклюжести, – отметила в разговоре с корреспондентом эксперт департамента образования Дзинтра Тимша. – Помогает ассистент такому ребенку и справляться с общими занятиями, и тем самым облегчает работу педагогу.
Интересно, а где учат таких ассистентов? И чем отличаются ассистенты психических пациентов от пациентов с нарушениями двигательного аппарата?
– Нет у этих ассистентов никакой квалификации, о чем вы! – смеется воспитатель-пенсионер Валентина Смирнова. – Сколько их через меня прошло, ни у кого не было никакого специального образования. Это просто нянечки на подработке, как правило, не слишком востребованные детсадом. Либо по причине молодости и неопытности, что не так плохо, либо из-за языковых проблем, что еще лучше, потому что профи, выкинутый из профессии из-за языка, остается профи. Хуже, если эта нянечка не востребована садиком из-за конфликтности или равнодушия. Хороший ассистент – на вес золота. Только зарабатывает меньше, чем нянечка в группе.
Есть и другая возможность для детей с особенностями – спецсадики. Есть учреждения для инвалидов по зрению. Детей там обучают азбуке Брайля, учат пользоваться устройствами для аудиокнижек. Есть садики для инвалидов по слуху. Есть садики для детей с нарушениями психического развития. Воспитателей в таких садиках больше, а детей в группах меньше.
Но пойти в такой садик – значит утратить возможность социализации, признать, что ребенок не справляется в обществе обычных детей и может не справиться никогда. Конечно, родители избегают спецсадиков и спецшкол до последнего.
В учебном году 2023/2024 общее число детей со специальными нуждами в школах Латвии составляло 19360, из которых лишь 9000 детей-инвалидов.
Интересы государства и индивидов
Будем честны. Государству выгодна реабилитация и корректировка детей, которых можно привести в норму при посещении обычного детсада. Потому что ребенок, которого удалось скорректировать в норму, скорее всего будет работать, приносить домой зарплату и налоги в казну.
А вот родителям нормальных детей это соседство невыгодно. Примерно так же, как родителям отличников не слишком выгодно соседство на уроках с их детьми – двоечников. Только отличники и сами меньшинство, и к терпимости коллектива должны привыкать так же, как и дети с особенностями. Причем порой отличники и инвалиды – пересекающиеся группы.
– Если говорить честно, без розовых очков, родители обычных детей сложно переносят соседство в группах детских садов детей-инвалидов, – рассказывает педагог детского сада Валерия Лерина. – Знают, что должны терпеть, но также знают, что их право и обязанность защищать своих детей и их интересы.
И если соседский ребенок с гиперактивностью разбил голову кровиночке обычного родителя – толерантность отставляется в сторону. А чего ждать? Пока собственный ребенок станет инвалидом в результате травмы?
Если нетерпимость родителей обычных детей к опасным «особенностям» еще понятна, то ксенофобия к даунам и аутистам или инвалидам по зрению и слуху таких рациональных доводов не имеет, но все равно присутствует. Не у всех и не всегда, но отнюдь не редкость, и хорошо знакома педагогам детских садов и школ. Встречается она и у самих педагогов.
– Не раз и не два приходилось слышать, как малыша педагоги и нянечки за глаза называют каким-нибудь оскорбительным или уничижительным прозвищем, – рассказала Светлана, мама гиперактивного мальчика, ныне посещающего школу. – И ничего не докажешь, всегда выкручиваются, что, мол, это не к моему ребенку относится, а к какому-то другому. Но мне все равно, кого они оскорбляют, моего ребенка или другого.
Я всегда на них жаловалась руководству садика. И до департамента образования дело доходило. Никого не уволили, но при мне, во всяком случае, болтали осторожнее.
Мой ребенок – здоров!
Но ведь своя правда есть и у педагогов. Порой родители детей-инвалидов думают о себе больше, чем о своем ребенке.
– До недавнего времени ходил в наш садик один малыш, которому совсем не место в обычном садике, слишком опасно там для него, – рассказала Валерия Лерина. – У ребенка сложное заболевание, он в свои пять лет не разговаривает. Передвигается на ходунках, так как ноги его не держат. В горле его стоит зонд, через который его надо кормить. Мать убеждена, что социализация все поправит. Предлагает пятилетним детям не только играть со своим сыном, но и кормить этого малыша. А ведь это элементарно опасно! Если что-то пойдет не так, если пятилетка положит в зонд что-то такое, что его забьет, и ребенок-инвалид задохнется, кто будет виноват? Пятилетка или педагог, который это допустил?
– Хуже всего было несоблюдение графика, – вспоминает Валерия Лерина. – Мама приводила его аккурат, когда начиналось учебное занятие, то есть после завтрака. У детей время на учебу – всего полчаса в день. Больше они не воспринимают, когнитивные способности невелики. И конечно, когда посреди урока приходил малыш, который начинал бегать по классу на ходунках – урок то и дело срывался. О том, чтобы ему принять участие в уроке, мечтала только мать. Но это были абсолютно пустые мечты. Остальные детки уже учились писать и читать, этот малыш еще даже не разговаривал.
Тем не менее мама была серьезно настроена отдавать его в обычную школу. Похоже, она просто не желала осознавать, насколько болен ее ребенок. Да еще обыкновенный садик рядом с домом, а до специального нужно ехать в другой район.
Особенные слабости
Впрочем, именно на родителей детей-инвалидов, посещающих обычные садики, ложится основная тяжесть воспитания таких детей. Ведь у большинства педагогов просто нет соответствующей квалификации.
– Все дети-инвалиды разные, – рассказывает «МК-Латвии» социальный ментор общества инвалидов Apeiron Дайна Подзиня, сама имеющая ребенка-инвалида и знакомая со всеми проблемами не понаслышке. – Программа, разработанная для одного ребенка-инвалида, другим не подходит. Слабовидящий ребенок имеет совсем другие проблемы, нежели ребенок-аутист. Методики для их обучения принципиально разные. Их невозможно и не нужно уравнивать.
Есть множество детей с легкой степенью инвалидности, преодолевающих свой недуг, проходящих социализацию и вливающихся в общество.
Но есть и те, у кого инвалидность тяжелая, и кому нужно не только академическое образование, но нужно научиться жить со своей особенностью, преодолевать свои особенно сложные слабости. Наша система образования изменилась. Ныне – основной упор именно на общие предметы. То есть Министерство образования полагает первостепенной задачей дать особенным детям общее образование, такое же, как всем. Но зачастую педагоги просто не умеют работать с детьми-инвалидами. И тогда случаются трагедии.
– Педагоги, способные помочь инвалидам – это большой вызов всей системе образования, – признает главный дошкольный эксперт Департамента образования Рижской думы Дзинтра Тимша. – Для педагогов, желающих повысить свой профессионализм в работе с детьми-инвалидами, в рижском информационно-методическом центре доступны курсы повышения квалификации. Правда, пока они только трехмесячные.
Главное не болезнь, главное – талант!
– На мой взгляд, вообще подход в оценке детей-инвалидов в корне неверный, – замечает эксперт общества инвалидов Дайна Подзиня. – Сейчас эксперты от образования концентрируются на том, чего ребенок не может, а нужно смотреть на то, в чем ребенок талантлив. Знаете же, у детей с синдромом Дауна часто высокий эмоциональный интеллект, то есть они не всегда способны в математике, но часто безошибочно определяют людей, которые могут помочь, и сами чутко чувствуют, когда помощь нужна другим. Аутисты часто талантливы в абстрактных науках, таких как математика и физика. Им нужно помочь преодолеть свои слабости, и они могут достичь впечатляющих результатов.
Нынешний подход, когда ребенок-инвалид называется ребенком с особенностями, на первый взгляд, естественно, толерантный, но имеет и свои минусы, мешающие именно детям-инвалидам.
– Термин «ребенок с особенностями» гораздо шире термина «ребенок-инвалид», – замечает Дайна Подзиня. – Среди «детей с особенностями» примерно только половина инвалидов. С одной стороны, кажется, что вторая половина этих детей превозмогли свою инвалидность. Но реально большинство среди «детей с особенностями» – дети с нарушением поведения. Раньше таких называли хулиганами. Конечно, и им нужны особенные педагоги. Вероятно, с большим образованием, чем дополнительные трехмесячные курсы. Но их проблемы лежат совсем в другой плоскости, чем проблемы детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабовидящих и плохослышаших детей.
– По-хорошему в интересах государства понимать, сколько и каких особенных детей рождается и приходит в садики, – считает Дайна Подзиня. – Чтобы воспитать нужное число педагогов для каждой категории детей с особенностями.
Как рассказала «МК-Латвии» Дайна Подзиня, в последние годы среди детей-инвалидов преобладают дети с проблемами психического развития и проблемами центральной нервной системы. Конечно, обычные педагоги пасуют перед такими детьми, нужны специалисты, которых в нашей системе образования не хватает. Педагоги же в обычных школах не мотивированы повышать свою квалификацию в области работы с особенными детьми.
Ведь если работать в обычном садике или школе, то никакой доплаты за особенного ребенка в группе или в классе не будет. Легче избавиться от такого воспитанника под благовидным предлогом.
– Ключ к развитию особого ребенка – это эмпатия педагога, – горько замечает Дайна Подзиня. – Конечно, в педагоги идут люди, которые хотя бы в начале своего обучения любят детей. Но для любви к «особенному ребенку» сердце должно быть особенно большим. Уволят ли педагога, если его эмпатии хватает на обычных детей и не хватает на особенных? Конечно, нет. Если особенному ребенку повезло с педагогом, то это буквально его шанс на нормальное обучение, на включение в нормальную жизнь. И какая же это трагедия, когда такой человек с большим сердцем уходит из образовательной системы и на его место приходит обычный...
Как рассказала Дайна Подзиня, многие педагоги просто не понимают, как можно преодолеть недуг ребенка. Например, для дислексиков, у которых буквы путаются во что-то нечитаемое, можно ставить аудиотексты и предлагать им аудиозадачи.
В мире такое доступно, а в латвийской методической базе – нет.
Нужны аудиозадачи и слабовидящим детям. Ведь их проблема не в том, что они не могут посчитать, а в том, что для них проблема разглядеть условия задачи.
Одна из самых острых проблем – это дети с особенностями аутистического спектра. Их число увеличивается год от года во всем мире.
В то же время появились методики, позволяющие нормализовать жизнь такого человека. Однако все ли педагоги знают методики обучения таких детей?
– Фильмы о талантливых детях-аутистах посмотрели многие, – горько замечает мама трехлетнего аутиста, Наталья. – Но реальные методики обучения – это не художественный фильм. Заслужить доверие аутиста не просто, и многие воспитатели не тратят на это время, ведь есть обычные дети, с которыми все понятно. И маленький человек с детства привыкает быть изгоем...
Арсений МАТВЕЕВ