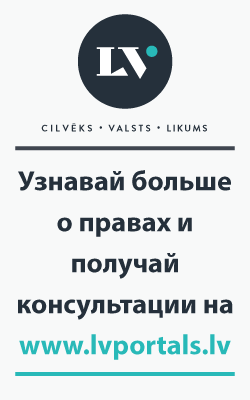Эмоциональное воспитание, эмоциональный интеллект – в последнее время мы часто слышим эти термины. Но что они означают? Какое практическое применение имеют? И как помогают нам взаимодействовать с детьми? Об этом мы расспросили Ксению Соловьеву, ведущую латвийских групп поддержки родителей, руководителя проектов Mamkafe и Contact.
Ксения Соловьева – врач по образованию, но вот уже более 10 лет ведет образовательные группы поддержки родителей, рассказывая им о тонкостях эмоционального воспитания детей. Речь на лекциях идет не только о психологии, но о нашей биологической природе, в том числе и о нейрофизиологии. «Как врач я знаю, что поведенческие реакции – иногда это чисто биологическая история, – говорит Ксения. – Это помогает понять детское поведение».
Чувства за кадром
– Говоря о нейрофизиологии, вы имеете в виду гормоны и их влияние на настроение ребенка или самого взрослого?
– Нет, я о другом. Если вы ведете ребенка из садика, а он орет – это не вопрос гормонов, он орет, потому что мог устать. Когда вы голодны, вы быстро раздражаетесь – это не вопрос гормонов, а вопрос того, что ваша базовая биологическая потребность не удовлетворена.
– Эмоциональное воспитание и развитие эмоционального интеллекта – это одно и то же?
– В эмоциональное воспитание включено развитие эмоционального интеллекта.
Эмоциональный интеллект – это способность человека воспринимать свои эмоции и управлять чувствами.
Зачастую родители много времени тратят на интеллектуальное и физическое развитие детей, оставляя за кадром чувства самого ребенка.
Ребенку, который вышел из садика с криками, мы не говорим: «Ты просто вел себя весь день согласно правилам садика и очень устал от этого, и поэтому ты сейчас кричишь». Мы скорее скажем: «Успокойся, перестань, не ори». По сути, так мы запрещаем ребенку чувствовать и транслировать эти чувства.
Активное слушание
– Стоит за ребенка проговаривать то, что он чувствует?
– Обязательно. Когда ребенок маленький, мы ведь учим его читать, объясняя буквы и звуки. А про эмоции почему-то думаем, что умение их различать и называть откуда-то возьмется само собой. Существуют особые приемы в беседе, например, активное слушание – это когда человек не просто слушает и расспрашивает другого, но и отражает его эмоции. Например, родитель при этом проговаривает за ребенка то, что тот чувствует.
В обычной жизни, когда ребенок плачет или партнер с нами делится своими переживаниями, мы начинаем раздавать советы, или обесценивать чувства другого, или рационализировать. Мы делаем все, что угодно, но только не активно слушаем.
Главное в активном слушании – принять эмоции другого. Принять – это не значит, что вы должны понимать, что другой чувствует, или разделять его эмоции.
– А в чем тогда принятие заключается?
– В том, что вы признаете: другой имеет право злиться, расстраиваться, завидовать, ревновать и что нормально испытывать эти чувства.
Другое дело, когда мама транслирует противоречивое, так называемое шизофреногенное послание: например, она плачет, и на вопрос ребенка «Почему ты плачешь?» отвечает «Все хорошо».
Ребенок, всецело, без условий, доверяя маме, слыша не то, что он видит в реальности, начинает думать, что с ним что-то не так. Он перестает доверять своим чувствам, скажем, начинает сомневаться – действительно ли он устал, действительно ли он зол.
В этом случае вместо развития эмоционального интеллекта происходит некий регресс и возникает ситуация, как в моем любимом анекдоте.
Мама кричит: «Яша, иди домой!»
– Я что, замерз?
– Нет, ты проголодался.
Сложно быть взрослым
– До каких пор ребенок безусловно доверяет родителю? И когда начинает сомневаться в родителях?
– Мы сами зачастую создаем такие ситуации, показывая ребенку, что в нас можно сомневаться. Например, что-то пообещали и не выполнили.
Мы поступаем непоследовательно или ставим детям условия, говорим, например: «Будешь плохо себя вести, не куплю мороженого». И потом удивляемся, что ребенок разговаривает с нами так же. У детей модель поведения имитационная. Когда приходит родитель и говорит мне: «Не знаю, откуда ребенок это принес», я предлагаю в первую очередь присмотреться к себе и к членам семьи.
Даже в детских садах дети играют в то, что происходило в семье, имитируют поведение взрослых.
– Почему ребенку нельзя ставить условия?
– Ставить можно, но эта модель общения не должна превалировать. Безусловные отношения – не значит вседозволенность. В модели безусловных отношений мы разделяем личность и поступок: «Я тебя люблю любого, но твой вот этот конкретный поступок для меня неприемлем».
Нередко родитель, которому хамит ребенок, отвечает ему тем же хамством, демонстрируя при этом, что именно так и надо отвечать.
Вместо этого можно сказать: «Я тебя очень люблю, но я твоя мама, так со мной разговаривать нельзя. Когда ты будешь в состоянии говорить другим тоном, я тебя выслушаю». И это будет по-взрослому.
Вообще быть взрослым невероятно сложно. Это постоянная ответственность за свои поступки и действия, это выстраивание границ, это демонстрация ребенку желаемого поведения и его моделей.
Это не значит, что родители не имеют права выходить порой из взрослого состояния (out of adult). Можно позвонить и поплакаться мужу или подруге. Но когда уже совсем не «вывозите» и все чаще прикрикиваете на близких и детей – это повод обратить внимание на свое состояние и, возможно, отдохнуть или даже обратиться за помощью
Польза я-сообщений
– Помогают ли так называемые я-сообщения, которыми нас призывают общаться психологи?
– Да. У нас недавно был интенсив по я-сообщениям. И мы пришли к выводу: для того, чтобы так говорить, нужна невероятная честность быть самой собой. Я в этот момент не боюсь быть обнаженной в своих чувствах перед собеседником. Не боюсь быть уязвимой. И это не все могут сделать.
– Вы могли бы привести пример я-сообщения?
– «Я очень тебе благодарна за то, что ты съездил вместо меня к врачу за справкой и мне не пришлось тратить время – так я чувствую твою заботу о себе».
Понятно, что это немного утрированно звучит, но я-сообщение всегда про себя – про то, почему это для меня важно.
Например, мать может сказать ребенку: «Когда ты повышаешь на меня голос, я злюсь, так как чувствую себя мамой, которая не научила тебя вежливо разговаривать».
– Какие длинные фразы. И непривычно звучат.
– Я-сообщения не могут быть короткими. Но они всегда подразумевают честность и искренность. В я-сообщении ответственность за изменение поведения ложится на собеседника – он решает, менять ему поведение или нет.
– Даже маленький ребенок поймет я-сообщение?
– Если вы с ним никогда так не разговаривали, он не поймет, да и взрослый может не понять. Я считаю, что с рождения надо использовать я-сообщения, разговаривая с детьми, тогда эти формы отложатся в подкорке.
Вот пример: барышне 4 года. Когда ей было 2 годика, она говорила отцу: «Папа, когда ты надеваешь на меня шапку, я чувствую, я чувствую… папа, помоги мне, что я чувствую». Она чувствует, но что именно, пока не понимает, и просит папу подсказать название этой эмоции через я-сообщение: это может быть благодарность, забота, радость взаимодействия с папой.
Потому что родители с девочкой в этой парадигме с самого рождения говорят.
Конечно, для быстроты и краткости можно использовать не только я-сообщения. Но я-сообщения позволяют подчеркнуть эмоции, объяснить свои чувства.
Во фразе «Ты опять опоздал» слышится явный упрек. Сравните с я-сообщением: «Я очень злюсь, когда ты опаздываешь и не предупреждаешь меня, потому что я не могу спланировать свое время».
Вместо упреков
– То есть надо еще и объяснять, почему ты что-то чувствуешь?
– Конечно. Потому что, если просто сказать: «Я злюсь, когда ты опаздываешь» – это будет про тетю, которая злится по разным поводам.
Раз уж мы заговорили о я-сообщениях, то в оптимальном формате на три позитивных я- -сообщения должно приходиться одно негативное, потому что позитивное подкрепление работает лучше.
Если вы скажете ребенку: «Я благодарна за заботу и помощь, за то, что ты нашел время и помог мне по работе, хотя это не входило в твои планы», ребенок поймет, что ваша просьба о помощи – это не просто блажь.
– Непривычно это звучит.
– У меня была пара родителей в социальной группе поддержки родителей неблагополучных подростков. И мать говорила: «В моем мире так никто не разговаривает». А рядом сидела женщина, которая второй раз участвовала в этих курсах. И она той женщине ответила: «Знаете, в моем мире раньше тоже никто так не разговаривал. Но я начала так разговаривать, и так стали общаться мои близкие».
Моделируем желаемое поведение
– Допустимо ли ставить ребенку условия, чтобы он изменил нежелательное поведение? Например, моя дочка 10 лет, которая залипает в телефоне, попросила меня дать ей денег на игру. Я ей сказала, что дам, если она значительно ограничит время сидения в телефоне. Она согласилась. Я поступила неправильно?
– Такие методы дисциплинирования, как шантаж, выставление условий, манипуляции могут быть очень эффективны, но кратковременно. А методы, с помощью которых мы моделируем желаемое поведение, когда хвалим ребенка и даем бонусы, в коротком промежутке времени могут быть менее эффективны. Но они дают основу для дисциплинарной саморегуляции в будущем.
Ваша дочь в будущем себе скажет: «Если я в течение месяца себя в чем-то ограничу, потом смогу получить бонус».
Можно было сказать и по-другому: «Я беспокоюсь, что у тебя много времени уходит на телефон, на суррогатную реальность, и поэтому мы мало с тобой общаемся». За всяким сокращением должен следовать бонус, скажем, если ребенок сокращает время сидения в гаджетах, эту параллельную реальность надо заменить на живое человеческое общение. Например, на совместные ежедневные прогулки без телефонов – хотя бы по полчаса.
Если это сработает, ваша дочь через неделю получит четверть предполагаемой суммы, а вы в качестве бонуса можете помаду себе купить. И так к концу месяца у вас сформируется позитивная привычка, вы обе будете довольны.
Шанс повзрослеть
– Если изначально рамки, ограничения не были заданы, то как их вводить потом, когда ребенок становится подростком? Ведь это вызывает бурный протест со стороны ребенка?
– Конечно, вызовет, потому что ваша девочка уже подросткового возраста. Американская ассоциация педиатров установила планку подросткового возраста с 8 до 21 года. Есть дети, которые уже в 8 лет подростки и по социальным, и по поведенческим реакциям. И так как у подростков бурным ходом идет процесс сепарации от родителей, ваши действие и слова вызывают противодействие. Это норма, иначе ребенок не отделится.
Подростковый возраст ребенка – великолепный шанс для родителя снова прожить свой собственный подростковый возраст и повзрослеть. Ведь почему так много конфликтов в подростковом возрасте? Потому что мы массу условий ставим детям. Нам кажется, если у девушки выросла грудь и она красит губы, то должна думать как взрослая. Ничего подобного. Это все еще ребенок во взрослеющем теле. Взрослеющие дети – особая категория, они самые честные. Если малыш еще может под маму подстроиться, чтобы ее не расстроить, то подросток в большинстве случаев этого не делает и возникают конфликты: удобный ребенок превращается в неудобного.
И с этим надо что-то делать. Договариваться, взаимодействовать, рассказывать о своих ценностях, доносить их до детей. Например, если я хочу, чтобы ребенок учился, а он не учится – это про то, что для меня образование это ценность, а для него нет, он еще не понял, зачем нужна учеба.
Или когда партнер что-то пообещал и не выполнил – это про какую ценность?
– Про ответственность?
– Про доверие: я бы хотел тебе доверять, но если ты нарушаешь обещание, возникает недоверие. Обман – про то же. Каждый случай – это возможность поговорить о ценностях. И если ребенок сидит в гаджетах, надо посмотреть, как вы с ним общаетесь, как проводите время вместе, слушаете ли своего ребенка. От гаджетов могут отвлечь, например, настольные игры.
Дайте выбор
– Я заметила, что дочка все чаще отвечает «не хочу» почти на все мои предложения, в том числе на предложение сыграть в настольные игры. Я это тоже связала с сидением в гаджетах, но может быть дело в другом?
– Подросток протестует, это нормально. Нет – это его второе я. У тинейджеров идет личностная сепарация от родителей. Если у подростка нет выбора, например, его хотят лишить любимой игрушки, понятно, что он будет сопротивляться. Но можно сказать: «Ты имеешь право отказаться от моих предложений (например, предложения провести время вместе) четыре раза в неделю. А три раза – должен согласиться. Четыре раза израсходовал, три раза изволь. Пропорция может быть и другой: пять раз отказался, два раза согласился.
У нас в семье есть правило: трое выходных в месяц наши сыновья могут проводить вне семьи. А одни выходные в месяц – и сыновья должны договориться, какие – мы проводим вместе. Самое интересное, что таких совместных выходных становится все больше. Мальчики говорят: «А чего вы без нас уехали? Почему нас не взяли?»
Но так бывает в том случае, если детям с родителями интересно. Почему я родителей подростков призываю смотреть ролики в соцсети Tik-Tok? Чтобы поняли, что смотрит и слушает ребенок, чем он живет. И это тоже развитие эмоционального интеллекта, поскольку помогает понять, что другой чувствует и чего хочет. Это не обязательно должно меня радовать, но я по крайней мере в курсе дела.
Начать с себя
– С чего начать развитие эмоционального интеллекта у ребенка?
– Родителю начать надо с себя. Если вы не понимаете, что с вами происходит, как вы научите ребенка?
Если родитель не говорит о своих эмоциях и не комментирует, что происходит с ребенком, то это тупик. Раньше, еще лет 20 назад, задачу эмоционального воспитания отчасти выполняли дворы и школы. В детских компаниях во дворе эмоции считывались: выходила Маша, Петя начинал улыбаться, выходил Вова, Петя мрачнел.
Раньше многие жили большими семьями – мама, папа, бабушка, дедушка, браться, сестры, тети, дяди. Сейчас мы живем более закрыто. В садике и школе драться, бегать и орать нельзя. Дома тоже – не бегай, не ори, ты не в лесу. И получается, что ребенок уходит в параллельную реальность, в гаджеты, где нет истории эмоционального развития вообще. Там в отличие от реальной жизни любую эмоцию можно предугадать.
Ты испытал зависть
– Эмоциональное развитие – непрекращающийся процесс, – говорит Ксения Соловьева. – Можно поймать себя на том, что вещи, которые раньше радовали, перестали радовать или начали раздражать. И задаться вопросом – почему.
Я хорошо помню момент, как сын впервые осознал, что такое зависть. Девочке, с которой он дружил, подарили айфон. Как только он узнал про айфон, то посмурнел, стал ко мне цепляться. Я подумала, что у него просто испортилось настроение, но поговорив, выяснила причину.
Он с плачем сказал: «Мамочка, как будто жабка на меня села». А я объяснила ему: «Ты сейчас испытал зависть. Но подумай о том, что твоя подруга все лето сидела дома. А ты летом с бабулей и дедулей посетил 13 стран. Айфон может упасть и разбиться. А воспоминания остаются в сердце и никуда не денутся».
Зависть испытывать нормально, но когда мы злимся на того, кому завидуем, это может быть разрушительно для нас.
Однако зависть и другие негативные эмоции можно направить в конструктивное русло. И это одна из целей эмоционального воспитания. Например, можно подумать с ребенком, как ему на айфон заработать или что полезного он может сделать, чтобы его получить. И это как раз про развитие эмоционального интеллекта.
Проблема в системе обучения
– Наступает новый учебный год. Какие запросы от родителей школьников самые частые?
– Перед школой невротизация наблюдается всегда, особенно у родителей младших школьников. Родители старших школьников воспринимают процесс учебы поспокойнее. Родители подростков нередко жалуются, что ребенок не хочет учиться и ничего не хочет делать. А проблема зачастую не столько в детях, сколько в системе образования – ребенок не хочет учиться, потому что ему неинтересно. Система работает не на процесс (научить учиться), а на результат.
В школе моему сыну за решение математической задачи поставили неуд, потому что он решил ее необычным способом, и учитель посчитал, что неправильно. Мы с сыном посмеялись – ведь репетитор по математике сына похвалила: решение необычное, но там был виден ход мысли.
Во время пандемии ковида мы насмотрелись, как проходят уроки в Zoom, лично я пришла к выводу, что детям было скучно.
Изменился во время пандемии и родительский статус: родителей вынудили стать учителями, это усугубило конфликты – родитель не должен быть в роли профессионального учителя.
– Тем не менее многие родители постоянно контролируют детей, проверяют их оценки. Это идет на пользу ребенку?
– Это скорее говорит о недоверии родителей ребенку. О неготовности отпустить контроль над учебой.
– Ну ведь родителям хочется для детей лучшего будущего.
– Нет никакой связи между отметками и успехом – двоечники зачастую более изобретательны, а отличники в большинстве прекрасные невротизированные исполнители, которые привыкли работать на результат.
Вопрос взаимодействия
– Наверное, отличникам и хорошистам в обществе легче адаптироваться?
– Не факт. Важен вопрос взаимодействия родителей и ребенка. Важно понять, почему вот я хочу, чтобы ребенок учился на отлично?
– Например, чтобы он поступил в престижный вуз, освоил востребованную профессию.
– Но хочет ли ребенок освоить эту профессию?
Однажды я спросила девочку, кем она хочет быть. Она втянула плечи и сказала: «Я буду юристом, как хочет мама». Потом она или положит маме диплом на стол, или станет несчастным юристом, который ненавидит свою работу.
– Что же делать родителям, чьи дети не хотят учиться? Забить?
– Нет, конечно. Надо быть в контакте с учителями, но многим родителям это не удается.
Я за то, чтобы говорить с учителями, посвящать их в особенности характера и темперамента ребенка. Если договориться не удается – придется либо менять школу, либо учителя.
– Что вы посоветуете делать родителям, которые сами не обладают развитой эмпатией и эмоциональным интеллектом?
– Если вы не различаете свои эмоции, то стоит походить к психотерапевту или почитать книги Виктории Шиманской об эмоциональном интеллекте.
Есть хорошие книги: «Эмоциональный интеллект» Дэниэла Голмана и «Эмоциональный интеллект ребенка» Джона Готтмана – они доступно написаны. Можно поставить себе на скринсейвер Колесо эмоций Плутчика и отслеживать свои чувства. Это упрощенный вариант, но лучше так, чем никак.
Марина СИУНОВА