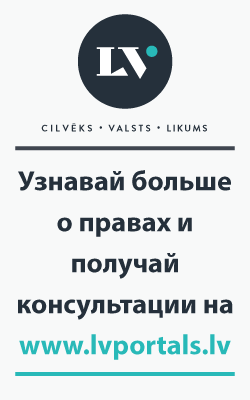У основательницы Рижского музея моды Натальи Музычкиной интересная биография: архитектор по профессии и керамист по призванию, она несколько раз меняла род занятий, успела пожить в разных странах. В интервью «МК-Латвии» она рассказала, как решалась на перемены, а также пояснила, в чем уникальность современной моды и что ее роднит с модой 60-х.
Прыжок в будущее
В Рижском музее моды сейчас проходит выставка «Прыжок в будущее. Мода 1960-х». Чем интересна та эпоха? Тем, что тогда произошло стремительное расширение представлений о возможном. Человек полетел в космос и высадился на Луне, опустился на дно моря, как французский исследователь Жак-Ив Кусто, или растворился в мироздании, практикуя йогу или рецепты Карлоса Кастанеды.
Молодое поколение 1960-х годов, мечтавшее о новом обществе, свободном от сексуальных запретов и буржуазной морали – прыгнуло в будущее: мечты молниеносно воплощались в реальность.
Мода чутко реагировала на изменения в мире. В 60-е в моду вошла космическая тема и этнические мотивы, привнесенные хиппи. Традиционные костюмы, шляпы и официальная одежда заменялись джинсами, футболками и мини-платьями. Вместо чулок женщины стали носить удобные колготки. Мини-юбка стала символом эмансипации. Все многообразие моды 60-х можно оценить, посетив выставку, где представлены творения ведущих дизайнеров эпохи 60-х.
– Наталья, с какого времени начинаются ваши личные модные воспоминания?
– Моя юность пришлась на 70-е годы ХХ века, но и 60-е я помню очень хорошо, в том числе по рассказам родителей. Я прекрасно помню невероятно модные плащи «болонья», которые не защищали ни от какого дождя. Я помню страшно популярные свитера толстой вязки. При этом шерсть продавалась исключительно тонкая, поэтому люди выкручивались как могли: покупали одеяла, распускали и вязали из этих ниток. Я помню столики каплевидной формы и ужасающие трехногие табуретки, которые падали, как только ты на них вставал. Вообще тогда в мире, и в Советском Союзе в том числе, были модны предметы интерьера геометрической формы – это такой оммаж авангарду 20-х годов.
Тогда же в моду вошла космическая тема и в СССР, и в мире. Это и запуск первого спутника, и первый космический полет, и личное обаяние Юрия Гагарина, которого принимали во всех странах, и надежда на то, что человек вот-вот освоит космос и, возможно, даже построит там лучший и справедливый мир. Поколение 60-х буквально впрыгнуло в будущее, и мода тоже не отставала ни на секунду. Те перемены, которые готовились на протяжении 50-х, они все случились в 60-х годах.

Протест в старинных нарядах
– Вы в юности были модницей? Как доставали вещи, сами вязали, шили?
– Я быстро научилась шить, у нас в школе были уроки труда, и шитье мне доставляло удовольствие. Я шила себе те самые мини-юбки, которые были в большой моде, но в магазинах не продавались. Мы доставали ткани, перешивали бабушкины крепдешиновые платья 30-х годов. Знакомство и дружба с историком моды Александром Васильевым тогда повлияла на мое восприятие моды. У нас сложилась молодежная компания, склонная к протестному поведению. Этот протест выражался в том, что мы одевались в старинную одежду, которой у Саши было в избытке.
– Он уже тогда коллекционировал одежду?
– Он коллекционировал ее с 14 лет, его родители работали в театре: папа был художником, а мама – актрисой и преподавателем. У каждого театрального художника была личная коллекция вещей, которые потом использовали в спектаклях. Тогда эти коллекции собирались просто – вещи подбирались на помойках, на которые выбрасывали рояли, картины, старинные кресла и одежду. Именно в 60-е мода резко поменялась, в моду вошла современность, лаконизм, старинные буфеты выбрасывались и заменялись на румынские стенки. Кроме того, многие люди переезжали из коммуналок в собственное, но малогабаритное жилье, куда все это не помещалось. Так что на помойках можно было собрать прекрасную одежду, включая старинные шляпы с перьями. Все это собиралось, чистилось и хранилось в сундуках у Саши Васильева в квартире. Мы это на себя надевали на праздники в разнообразном сочетании и так выходили на первомайские демонстрации. Выглядели в этом мы странно, но нас не задерживали, так как ничего криминального в этих демаршах не было. Часто нас принимали за массовку кино, кто-то оборачивался вслед, открыв рот. Все это было весело, даже какие-то фотографии остались с тех времен.

Лучший скульптор 1986 года
– Ваш интерес к моде вырос из тех времен?
– Я бы не сказала, что меня всегда интересовала именно мода, скорее искусство, и его в моей жизни было много. Я поступила в Московский архитектурный институт, и мое образование на одну половину состояло из дисциплин по искусству – из лепки, рисования, живописи, композиции, проектирования. А на вторую половину – из технических наук. Прямо как в эпоху Возрождения.
– Вы работали архитектором в Советском Союзе?
– Очень мало, потому что в Советском Союзе особого простора для архитекторов не было. А потом и Советский Союз закончился. Я много и профессионально занималась керамикой и даже была признана лучшим скульптором 1986 года в молодежной секции Союза художников. Мне это очень нравилось, я создала свою мастерскую на базе художественного комбината. Мы восполняли повсеместно царящий тогда дефицит, выпуская художественную керамическую продукцию, в том числе посуду.
– Почему вы в 90-е решились переехать в США?
– История моего переезда совершенно не романтическая, а связана она с бандитизмом, который разошелся в России в 90-е. На наш художественный комбинат пришел новый директор, а с ним и натуральные бандиты, которые решили крышевать заведение. Мы с ними совершенно не сошлись характерами, я сказала, что работать с ними не буду. В итоге продала мастерскую и уехала в США. Уезжала я в состоянии «пропадай моя телега»! Все-таки очень обидно, когда столько сил вкладываешь в создание чего-то своего на руинах советского комбината, а потом по воле каких-то людей вынуждена это бросить.

Проявить себя в искусстве
– В Америке вы тоже занимались керамикой?
– Там я много чем занималась. И рекламной продукцией, и керамикой просто как фрилансер. Меня поразила простота американской налоговой системы: ты что-то продаешь, а потом отсылаешь чек с 10% своей выручки в налоговую и больше к тебе нет никаких вопросов.
Мне важно было в США себя как-то проявить, в том числе в искусстве. А американское искусство другое, оно сильно отличается от европейского. Если здесь у нас сдержанный скандинавский стиль, то американцы любят, чтобы было ярко, броско, в горошек, в полосочку и как-то очень необычно.
– Стиль ваших скульптур в Америке изменился?
– Конечно, ведь керамика, как и мода – это прикладное сиюминутное искусство. Нельзя быть ни модельером, ни керамистом в стол. Ты делаешь то, что нравится людям и в результате находишь свой стиль. В Америке я много работала, даже начала выставляться в хороших галереях, но… У мужа начал развиваться бизнес в России, семья моя не захотела оставаться в США, а я не захотела жертвовать семьей ради карьеры.
Давай откроем музей моды!
– Из США вы вернулись в Россию, а потом решили переехать в Латвию. Почему выбрали нашу страну?
– У меня есть латышские корни, в Латвии у нас остались родственники и я даже с ними встречалась. Один из моих родственников известный советский политический карикатурист Эрик Ошс. Также среди моих родственников – знаменитый оперный певец родом из Риги Артур Эйзен, который пел в Большом театре. Ну и, конечно, Латвию мы выбрали, потому что часто сюда ездили, узнали и полюбили эту страну, с которой ощущали много общего. Окончательно мы переехали в Латвию в 2013 году.
– Как возник проект Музея моды?
– Я давно хотела сделать музей, даже присматривала помещение. При этом меня в большей степени интересовала культура вообще, чем конкретно мода. Но я встретила Александра Васильева, который делал выставку в Рижском музее декоративного искусства, поделилась с ним идеей музея, а он мне сказал: «Давай сделаем музей моды». И я испытала что-то похожее на озарение: «Да! Ну, конечно же, музей моды». Потому что мода – это обо всем. Мода отражает мельчайшие изменения общественных настроений. Говоря о моде, ты можешь говорить о развитии производства, науки, культуры, тенденции, философии, красоты, эстетики.
– Расскажите, как вы начинали, как собирали коллекцию музея?
– Мы начинали с Александром, с его уже существующей коллекцией. Потом мы начали обращаться к рижанам, чтобы они приносили старинные вещи из своих семей. Люди откликнулись, нам приносили туфли, выпущенные на рижской фабрике в 20–30-х годах прошлого века, шляпки от Rīgas Cepures.
Много приносили журналов и плакаты Rīgas Modеs 60-х годов, которые Аснате Смелтере передала музею. Кстати, эти журналы и плакаты показывают, что работы рижских дизайнеров были не хуже, чем у Кардена или Куррежа. Вещи, отшитые в единственном экземпляре, прекрасно смотрелись на подиуме. Но как только они уходили в серийное производство, красота заканчивалась. В результате мы собрали неплохую коллекцию, которая, конечно, не идет в сравнение с гигантской и самой большой в Европе коллекцией Александра Васильева.
– Как он ее хранит, не все же, наверное, в музеях?
– У него есть склад, даже у нас есть небольшой склад. Кстати, мало кто знает, что одежду правильно хранить, положив вещи одну на другую – большие стопки делать нельзя, но пять-шесть платьев совершенно спокойно можно класть в одну коробку. А вот в висячем положении одежду хранить нельзя, потому что волокна начинают сильно растягиваться. Поэтому я всегда говорю, что если у вас что-то висит два года, надо с этим расставаться.

Ценные находки
– Где вы сейчас находите экспонаты для своего музея?
– В основном на аукционах, потому что такой ресурс, как помойки и барахолки, исчез. На барахолках в лучшем случае вы найдете вещи 70-х, а вот 60-х и 50-х уже давно нет. Все это ушло либо в специализированные магазины, либо на аукционы. Там же, кстати, продают вещи и музеи, которые пересматривают свои коллекции. Например, на аукционы выставляют так называемые двойные вещи, то есть похожие платья. Или же вещи, которым нужна долгая и сложная реставрация. На аукционах можно найти вещи из частных коллекций, которые, как правило, продают родственники, получившие наследство. Там же оказываются случайные находки: допустим, люди купили замок, полезли на чердак, открыли сундук, а там целая коллекция старинных вееров. Такие открытия случаются и еще будут случаться.
– Какой может быть порядок цен на таких аукционах?
– Пока самые высокие цены, которые я видела на аукционах, это 270 тысяч долларов за платье Скиапарелли и 240 тысяч за раннее платье Шанель 20-х годов. При этом цены могут очень сильно отличаться. Если это какой-то очень известный аукцион, например Christie’s, цены не могут быть низкими. На небольших локальных аукционах можно найти недорогие вещи, просто потому, что продавцы не понимают их ценности.
– Какие экземпляры из коллекции Музея моды для вас самые ценные? И есть ли вещи, которые вам по-особому дороги?
– Есть платье XVIII века редкой сохранности, что встречается не часто. Есть какие-то вещи, которые мне просто очень нравятся. Например, исключительно красивые вещи без бренда и подписей, изготовленные в частных мастерских. Или же вещи, у которых отпарывали этикетки, чтобы не платить экспортные пошлины. Например, в XIX – начале XX века дамы заказывали себе целые гардеробы во Франции. Заказать 25 платьев на сезон было нормой. А к ним туфли и чулки. Чтобы не платить пошлину при провозе этого богатства через границу, дамы отпарывали этикетки и выдавали эти вещи за свои.
Знаковые вещи и мужская мода
– Какие знаковые вещи XX-XXI веков есть в вашей коллекции?
– У нас есть две вещи Александра Маккуина, есть вещи от Диора. Очень высоко сейчас ценится Андре Курреж, например, у нас есть удивительного кроя костюм с мини-юбкой, по которому видно, что, во-первых, Курреж был военным летчиком, а во-вторых, военным инженером. Есть красное пальто из известной коллекции Пьера Кардена – очень редкая вещь. Эти вещи из коллекции музея сейчас представлены на выставке, посвященной 60-м годам.
Это уже третья выставка, которую мы делаем на основе собственных коллекций. Первая выставка называлась «Мать и дитя», вторая – «Шедевры моды». Четвертую выставку мы планируем делать совместно с фондом Александра Васильева.
– Не было ли у вас желания сделать выставку мужской моды?
– У нас есть несколько предметов мужской одежды 70-х, 80-х и 90-х годов. А также костюмы XIX века и даже один костюм XVIII века. Что касается выставки мужской моды, то она не будет такой популярной.
Мужская мода более консервативна, а с XIX века она стала сильно упрощенной. Кроме того, мужские вещи хуже сохранились – мужчины долго носили одежду, они были более социально активны, ездили на лошадях, ходили на работу, их одежда быстрее снашивалась. Еще одна проблема в том, что она была шерстяной, а шерстяную одежду ест моль. При этом есть коллекционеры мужской одежды, особенно военной униформы.
У нас тоже есть униформа английского летчика времен Второй мировой, но мы такие вещи покупаем просто для антуража. Например, если нам надо выставить 40-е, то одного мужчину в характерной одежде мы обязательно выставим. А на выставке, посвященной 60-м, у нас тоже есть экспонат – мальчик хиппи.
Выбрать собственный стиль
– Правда ли, что сами вы не носите винтаж?
– В принципе, да. У меня нет никаких предрассудков, я могу одеться в стиле той или иной эпохи. Например, на открытии выставки, посвященной 50-м, я могу быть в современной классической юбке и блузочке а-ля 50-е. Когда я вижу винтажную вещь, я понимаю, что она нам подходит для музея, но самой носить мне это в голову не приходит. При этом я знаю, что молодежь очень любит винтаж, они уже не одеваются в бренды, а ходят по винтажным магазинам, например, одеваются от бренда Volga Vintage или ходят по секондам, очень любят Humana. Но молодым все это идет, они красивые, худенькие.
– В 60-е годы в моде произошла революция. Возможны ли сейчас глобальные изменения в моде или все уже создано, и мы можем только миксовать открытия прошлых лет?
– Вы знаете, что не было еще такого времени, как сейчас, когда можно было все миксовать. Мы сейчас живем в прямо-таки революционное время. Всегда в моде господствовал какой-то стиль, причем привязанный к сезону: в этом сезоне носят такое, в следующем такое. А что сейчас? Посмотрите на модные дома. Один модный дом в стиле бохо, другой модный дом в стиле 60-х, третий выпускает подкладные плечи в стиле 80-х, четвертый – ни на что не похожий оверсайз. Так что остается только выбрать свой собственный стиль и носить. Сейчас уже нет определенного модного направления. Но сказать, что это навсегда, тоже нельзя. Все когда-нибудь изменится. И не исключено, что все начнут носить одежду в каком-то одном стиле, потому что это станет модным.
– Многие уже привыкли к расслабленному, спортивному стилю. Мало кто готов уделять столько времени нарядам, как это делали раньше. Как вы думаете, эта тенденция может измениться?
– Женщина хочет быть привлекательной, этого ведь никто не отменял. И даже в спортивном костюме она хочет выглядеть хорошо, более свежо, более современно. Например, сейчас в моде различные трансформации своего тела, которых в предыдущие эпохи было значительно меньше. Изменения внешности говорят о том, что мы собой интересуемся и продолжаем друг другом интересоваться – и женщины мужчинами, и мужчины женщинами. Никуда это не ушло, просто это немножко трансформировалось.
– Чем вы руководствуетесь, когда организуете выставочное пространство?
– Я нацелена на вау-эффект, чтобы коллекция смотрелась максимально интересно. Ведь дело не в том, какой у вас объект, а в том, как вы его показываете. Когда вы умеете красиво показать вещь, она становится драгоценностью. Вы можете выпустить на сцену гениальную балерину, но если вы не направите на нее свет прожектора, ее никто не увидит. Музейное дело – это тот же театр, та же сцена. Вы как бы и подводите зрителя к каким-то мыслям, и показываете ему то, на что он должен обратить внимание.
– Вы несколько раз кардинально меняли жизнь, переезжали в разные страны. Вы такая решительная по натуре?
– Да, я решительная по натуре. Знаете, как определяется, решительный человек или нет? По тому, как он входит в воду в море или другом водоеме. Одни люди сразу прыгают, а другие долго-долго-долго заходят. Я из тех, кто сразу прыгает. Долго я не раздумываю.
Марина СИУНОВА